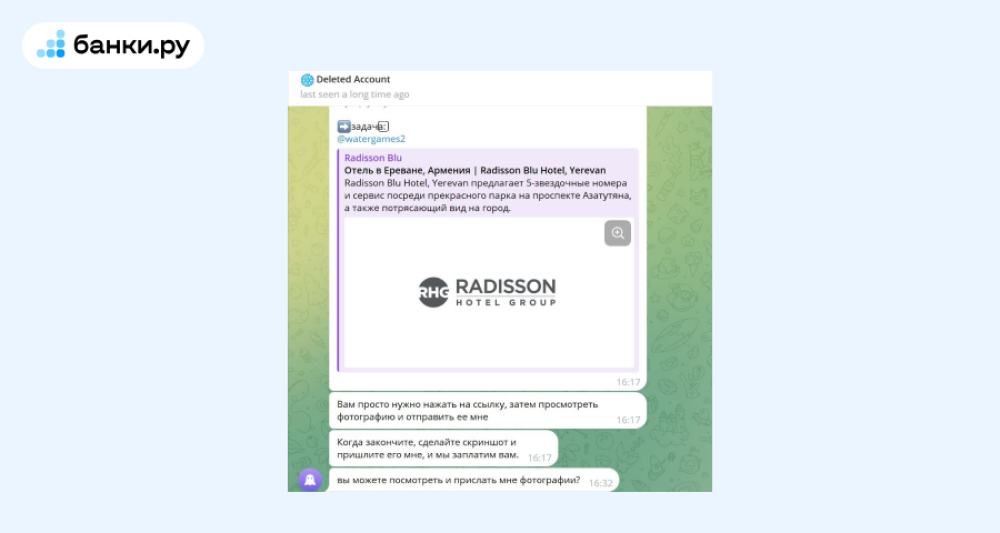Продолжение разговора с Ю. М. Лужковым. Часть 2
Елена Ищеева: Юрий Михайлович, все равно поспорю с вами и с собой. Я сейчас прихожу в магазин, покупаю российский сыр производства российских фермеров. Я ищу российское молоко. Я вижу небольшие хозяйства. Сейчас это модно в Москве, мы с вами в центре, на Патриках. Все покупают фермерские продукты. По чуть-чуть ростки, но появляются же, но ведь держимся же еще.
Юрий Лужков: Нет.
– Как нет, а что же я ем?
– Я говорю сейчас о реальной экономике.
– А это все не реальная? Это слишком мелкая?
– Нет. Это то, что является абсолютно необходимым. Малый бизнес, малый бизнес в сельском хозяйстве, малый бизнес в промышленности, который сегодня еле-еле сводит концы с концами. Потому что он вам продает, действительно, такие продукты, которые в экологическом плане для вас являются привлекательными.
– Да.
– Но вы посмотрите на его положение, на положение самого фермера. Как он эти продукты делает, какие у него получаются возможности для удержания своего хозяйства?
– Да, дороже. Но зато качество лучше.
–Качество лучше, ноон не может сводить концы с концами по большинству видов сельскохозяйственной продукции. Я могу сказать, если уж мы заговорили о фермерах. Семена выросли (в цене) в два раза. Семена овощных культур сегодня в России не производятся. Их нужно покупать. Покупаем мы их за доллары. И это означает, что я должен (раньше я тратил рубль на закупку этих семян) сегодня найти 3 рубля, чтобы купить столько же семян, сколько...
– Жизнь дорожает, математика ясна. К чему все это приведет?
– Отвечаю. Жизнь дорожает. По тем необходимым закупкам, которые фермер, которые земледелец осуществляет, тратит. А по своим продажам это не во столько раз увеличивается, окупается совершенно.
– Потому что и население нищает у нас тоже.
– Население нищает. Но население не может покупать за те деньги, которые соответствуют росту стоимости тех видов энергии или материалов, которые покупает этот фермер. И фермер в итоге разоряется.
– Но вы-то не разорились пока, держитесь?
– Нет. Не разорились.
– Сводите концы с концами?
– Сводим концы с концами.
– Кредиты когда-нибудь брали, я спрашивала?
– Никогда.
– Почему?
– Категорически. У меня прибыльность – 5%. А кредит я должен взять под 22–24%.
– Это еще при лучшем раскладе.
– Это при лучшем раскладе. И если я должен отдать этот кредит, получая 5% прибыльности, то я где-то должен найти эти 17% разницы между моей прибылью и уровнем кредитной ставки, которую я должен покрыть вместе с телом своего кредита. То я должен что сделать? Продать часть своих основных фондов. Что я должен продать? Технику. Технику сегодня мало кто покупает. Причем я должен это продать за бесценок. Если я эту технику имею. А если я фермер? Получил 4, 5, 10 гектар земли от господина Чубайса при приватизации. Не имею трактора, а имею только лопату.
– Банк отбирает землю. Такие примеры вам известны?
– Сколько угодно. Банки сегодня стали латифундистами поневоле. И, что самое интересное, эти банки начинают отбирать землю, потому что этот фермер…
– А сеять-то они не умеют.
– Не хотят.
– И не будут.
– Потому что они уже один раз потеряли деньги.
– Они будут пытаться это кому-то перепродать. А кому, если таких людей нет?
– Что самое интересное, что и банки попали в страшное положение. Потому что он отобрал у фермера этот кусочек земли, 10 га. Он отобрал у другого фермера, находящегося в другом месте, тоже 4, 5, 10 га. Что он будет с этими «лохмотьями» делать?
– В колхоз не объединишь, потому что географически…
– …не объединишь. Во-первых, это должно быть в пределах очень плотной территории, иначе там технику не используешь. И банк, уже получив очень и очень серьезный финансовый удар от невозврата денег со стороны этого фермера, уже не будет вкладывать. Если уже реальный сектор производства имеет такие уровни кредитования, то, скажите, где это производство, которое получает прибыльность выше, чем уровень процентной ставки?
– Да нет такого производства, я вам как гуманитарий даже отвечу.
– Скажите, почему тогда государство допускает?..
– А что оно должно?..
– Почему государство допускает такой безумный уровень кредитной ставки? Который вся экономика реальная, и сельское хозяйство, и реальная промышленность не может выдержать.
– Государство не имеет права диктовать, это бизнес. Это коммерция. Потому что кредит – под это. Депозит – под это.
– Какая коммерция? Государство обязано формировать финансовую и экономическую политику страны. Власть, правительство, президент должны, видя эту дикость в нашей экономике с такими процентными ставками, должны поправить мышление госбанка. Если государство, не имея возможности управлять решениями ЦБ… – я вообще удивляюсь на такое государство. Тем более когда речь идет о нашей стране. Да с такими возможностями со стороны президентской администрации по контролю за работой всей государственной системы. Чтобы не иметь возможности поправить ЦБ в его безумных намерениях повышения кредитной ставки, которые приводят к развалу самой банковской системы. Но если это так, то государство должно сделать иные решения.
– Какие?
– Отвечаю. Эти решения возможны даже в условиях вот такого безумия. Государство должно субсидировать процентную ставку.
– Опять дайте денежек.
– За счет ресурсов и резервов своей экономики. Вы знаете, речь идет сейчас не о том, как спасти какой-то мелкий банк. Речь идет о том, как найти государственное решение, которое застабилизирует базис. По Марксу экономика – это базис. А деньги – это надстройка. Деньги – это мерило базиса. Вот когда мы сделаем базис стабильным, когда мы сделаем базис развивающимся, ну хотя бы стабильным, тогда будет стабилизация и банковской системы. До тех пор, пока этого нет, до тех пор, пока ЦБ произвольно устанавливает эти свои уровни процентных ставок, реальный сектор экономики чувствует себя плохо, разваливается. Сельское хозяйство, сельское хозяйство, о котором вы так говорите с придыханием, тоже разваливается.
– Да не с придыханием.
– 90 тысяч фермерских хозяйств за два года перестали существовать. Россельхозбанк раздал, по-моему, не совсем обоснованные кредиты...
– Цифры нам известны. Я, конечно, сейчас лукавлю, знаю.
– …разным «крупнякам».
– И куда они делись?
– А эти «крупняки» не могут отдать.
– Как и по другим отраслям отечественной экономики. Юрий Михайлович, знаете, сейчас, как говорила Рената Литвинова, «как страшно жить». Но живем же!
– Так вот, я могу сказать. Я живу только потому, что я не пользуюсь банковской системой.
– Вы рассчитываете только на себя. Но зарплату ваши люди получают, что, в конвертах или на карточку, через банковский перевод?
– Ни в коем случае. Всю зарплату мы получаем в банкоматах...
– Вот, цивилизация пришла и на поля.
– …которые выдают деньги по картам.
– Все, то есть все равно через российскую банковскую систему. Вы отправляете на счет, людям раздается. Они на карточках у вас получают.
– К сожалению, я могу сказать только об одном таком удивительном моменте. Мы находимся на востоке Калининградской области. Это такой маленький городок Озерск. И вся наша работа, контора и все остальное, люди живут в основном в этом Озерске. Там нет банкомата, который... Мы обслуживаемся Сбербанком.
– Вот, хотела спросить. То есть «Сбер» все-таки. Зарплатный проект в Сбербанке.
– Сбербанком. И люди для того, чтобы получать свою зарплату, ездят в Черняховск, в районный центр другой.
– Это к разговору про проникновение банковской индустрии на территории нашей страны.
– И это очень-очень неудобно. Хотя «в чистую» пользуемся только открытой, понятной контролируемой банковской системой по выдаче зарплаты. Но ни в коем случае не кредитами.
– Услышала. Юрий Михайлович, знаете, наверное, что происходит. Скоро практически исчезнет любимый многими бренд «Банк Москвы». Названия этого не будет. Как к этому относитесь?
– Я очень сожалею. Банк Москвы всегда был прибыльным. Всегда работал на город.
– Название. Они входят в группу ВТБ.
– Дело не в названии. Дело в существе. Всегда приносил городу дивиденды хорошие.
– Там же тоже «дыры»-то нашли.
– Я не знаю, что там нашли. Его проверяли прямо перед моим таким странным увольнением. Его проверяли все контролирующие органы государственные. И – ничего.
Продолжение следует...