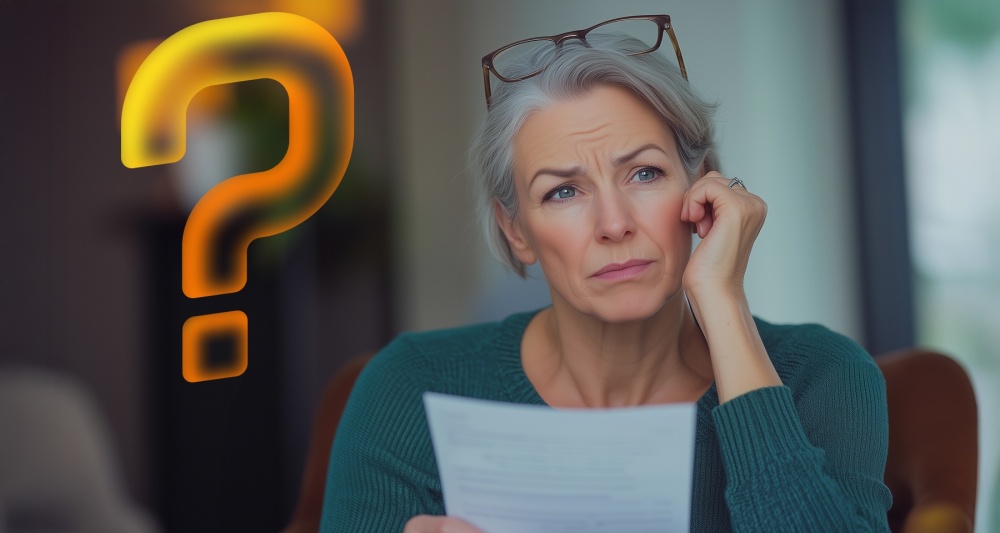В Государственную думу в конце минувшей недели был официально внесен законопроект, предусматривающий передачу Банку России полномочий Федеральной службы по финансовым рынкам. Таким образом, прошел вариант, предлагавшийся Министерством финансов: ФСФР как отдельная структура исчезает, а Центробанк берет на себя регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.
Вопрос создания в России такого мегарегулятора обсуждался на протяжении нескольких лет. Дискуссии в правительстве и администрации президента на эту тему то затухали, то возобновлялись с новой силой. В декабре 2012 года правительство все-таки приняло решение об интеграции ФСФР в Центробанк. В течение следующих двух лет в России должен появиться единый финансовый регулятор на базе ЦБ. Этот процесс завершит период раздельного регулирования различных секторов финансового рынка в стране.
Еще пару месяцев назад сам факт внесения закона о мегарегуляторе в Госдуму стал бы информационной бомбой — в новейшей истории России еще не было столь масштабной реформы контроля за финансовой системой. Контроль за деньгами и финансовыми игроками — важнейшая функция любой власти. А для такой увязшей по уши в бизнесе власти, как российская, он важен вдвойне. Однако сейчас это событие пройдет почти незамеченным.
Что изменилось? Буквально две вещи: разрешилась интрига вокруг назначения нового главы Центробанка и грянул кипрский кризис.
Сила любого ведомства по неписаным правилам жизни российской бюрократии определяется не столько его полномочиями, сколько личным аппаратным весом руководителя. Стань главой ЦБ Алексей Кудрин или даже Сергей Глазьев, роль этого ведомства, да еще и с новыми полномочиями, действительно была бы если не ключевой в выработке финансовой политики государства, то очень заметной. В случае с Кудриным — потому, что это один из немногих чиновников, которого искренне считает профессионалом и к которому прислушивается сам президент. В случае с Глазьевым сразу бы появилась почва для спекуляций относительно возврата России к некоторым экзотическим особенностям советской финансовой политики. Потому что его назначение воспринималось бы как политический карт-бланш на смену курса. Назначение Эльвиры Набиуллиной убило эту интригу: у главы ведомства с суперполномочиями нет никакого существенного веса, амбиций и харизмы. А тихие технократы российской финансовой политикой не рулят.
Кипрский кризис показал, насколько хрупка, эфемерна, хрустальна финансовая мощь России, которой наши власти привыкли гордиться почти публично, время от времени распекая коллег из Евросоюза за долговые проблемы то в Греции, то в Испании, то в Италии. Все крупнейшие российские банки с точки зрения их политических обязательств вообще давно завязаны на Кремль, а вовсе не на ЦБ. Поэтому надзорный орган не сможет оградить их от финансирования любых, даже самых сомнительных с точки зрения коммерческой выгоды и прозрачности проектов, если на то будет высочайший заказ.
Новый мегарегулятор в сегодняшних российских условиях сильно напоминает классическое огородное пугало, которого не боятся даже воробьи, не говоря уже о людях. За два года, пока будет идти процесс ликвидации ФСФР и передачи его полномочий Центробанку, конечно, многое может измениться. Но, скорее, в ту сторону, когда от ЦБ будет зависеть еще меньше, чем сейчас.
А вообще, конечно, это серьезная информация к размышлению: маленькое островное государство оказывает более сильное влияние на настроения инвесторов в Россию и ситуацию на российских финансовых рынках, чем наши монетарные власти. Сколько бы нам ни говорили, что постоянный отток капитала из России — это нормально и даже хорошо, желание российского бизнеса не иметь дел с отечественной юрисдикцией очень показательно. Так можно дожить до момента, когда мегарегулятор появится, а регулировать ему будет нечего. Потому что все, кто может, просто разбегутся.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции